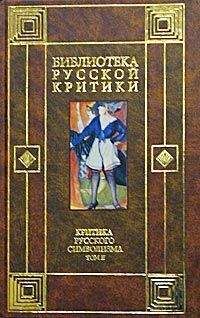Автор неизвестен - Журнал День и ночь
В те, уже далёкие от нас, шумные времена «перестройки» Роман Солнцев считался очень известным поэтом, прозаиком, драматургом, автором нескольких постановочных фильмов, прошедших по Центральному телевидению, членом знаменитой «межрегиональной группы» Верховного Совета, доживающего свои последние дни Союза ССР, а в 1994 году вместе с Виктором Астафьевым создал и возглавил красноярский журнал «День и Ночь», вобравший в себя не только всё талантливое в Сибири, но и за её пределами — от Сахалина до Риги.
Не забывал он и своих земляков — многие из казанских литераторов, особенно молодых, считали за честь печатать свои стихи и прозу в его сибирском журнале, который стал популярней многих московских литературных изданий.
Казань относилась к Роману Солнцеву довольно сдержанно. Крайние «националы» считали его чуть ли не предателем своего народа, поскольку он пишет не на родном, татарском, а на русском языке (тем самым он попадал в список, где присутствовали и Гавриил Державин, и Анна Ахматова!); другие не понимали, как можно касаться слишком острых тем, не одобряемых многомудрыми партийными чиновниками от литературы.
Помню один из ромкиных рассказов: его пьеса обсуждалась для постановки в довольно известном московском театре. С самого начала шла ремарка: «Правление колхоза. На стенах — портреты Маркса, Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко.». Зачитав этот список, режиссёр понимающе усмехнулся: «Ну, это мы уберём, снимем.». Автор с невинной улыбкой вроде бы согласного человека, громко спросил: «Кого?». И в комнате, где проходила читка, возникла, как у Гоголя, — немая сцена, недоуменная, растерянная тишина: верно, действительно, — «Кого?». Театр, да и только.
Когда началась перестройка, Союз писателей ссср забурлил, и Роман Солнцев развил активную деятельность, приняв участие в создании сначала движения «Апрель», затем — Союза российских писателей. От Казани принял в этом участие и я, грешный. На учредительном съезде срп меня даже избрали в Координационный совет, я попал в число таких имён, как любимые нами Булат Окуджава, Александр Кушнер, Николай Панченко, Григорий Поженян и целый ряд других. Мой старый друг Ромка Солнцев вместе с другим выпускником нашего университета, Игорем Золотусским, были избраны сопредседателями нового творческого союза. На одном из первых, весьма шумных заседаний Совета, произошёл инцидент — Золо-тусский совершил демарш — в знак протеста против чьей-то слишком «совковой» речи встал и покинул комнату, в которой все мы сидели. Роман вышел вслед за ним.
Меня поразило, с какой поспешностью их места во главе стола тут же заняли два других товарища, поднаторевших в писательских баталиях. Мне не оставалось ничего другого, я встал и пошёл искать ушедших. Найдя их в небольшой соседней комнатке, стал уговаривать вернуться, ибо «переворот», устроенный в их отсутствие, ставил под удар само существование только что созданного нового писательского Союза. Вернулись. И два ловких товарища, самозванно воссевшие на председательских стульях, вынуждены были освободить «завоёванные» места. Заседание продолжилось. Снова возобновились шумные и смелые речи, принимались какие-то решения, но вскоре я перестал ездить на координационный совет — подступала зима, надо было топить углём печку и налаживать жизнь, поскольку я в то время обменял казанскую квартиру на сельский кирпичный дом, в котором живу и работаю до сих пор.
С Романом Солнцевым повидаться больше не удалось, хотя оба мы надеялись не раз ещё встретиться и обняться в Москве, куда он время от времени наведывался. Однако я регулярно получал от него журнал «ДиН», и, конечно, книги, выходившие в Красноярске. Последними были солидный том прозы Романа «Дважды по одному следу» и великолепно изданный двухтомник стихов «Избранное».
Не знаю, успел ли он получить мой слабый отдарок за всё, свою последнюю книгу, изданную в Казани, — «Помню. Слышу. Люблю.» — книгу, посланную ему незадолго до трагической операции.
И вдруг — электронное сообщение:
«Я сам болен, 6 февраля у меня вырезали… о чём и говорить всегда жутковато, учусь с тем, что осталось, двигаться… питаться… Не знаю, вытяну ли. 68 лет.
Ладно. Алла бирса, как говорят татары. Обнимаю. Твой Рома.
9 марта. Прости, что не поздравил твоих женщин. большей частью пока лежу, отсыпаюсь.»
Последними в нашей переписке навсегда остались его два слова в ответ на моё электронное письмо с пожеланием выздоровления. Они напоминают трудный вздох: «Спасибо, милый…». А через неделю его не стало. Навсегда. Неотвратимо и горько. Он ушёл, закончив свой нелёгкий земной путь, в котором было всё — и надежды, и свершения, и любовь, и промахи, и успехи. Ушёл, оставив нам свои книги, — главное, ради чего живут поэты и писатели. В них — его мысли и образы, его душа… То, что в нас, хочется верить, — бессмертно! И мы не шепчем: «Прощай, дружище!». Уместней тихое и горестное: «До скорой Встречи!».
Веруем в своё призванье
Поэт, живущий где-то в Уругвае,
со мной связался через Интернет,
хоть я его, естественно,
не знаю, да и компьютера у нас в деревне нет.
А он мне пишет: «Дерево квебрахо
шумит листвой вечнозелёной поутру.
И как в России — вдалеке собака
о чём-то лает — слов не разберу…»
Я другу отвечаю: «Незнакомец!
Собаку просто надо накормить.
Хуан Диего Педро де-ла-Гомес
советовал ворону подстрелить
в подобном случае. Хотя бы.
Но однако,
Россию все мы любим одинако.»
На это отвечает нам поэт,
живой, хотя ему — две сотни лет:
«Я вас любил. Любовь ещё быть может…
Но пусть она вас больше не тревожит».
Нас кормит жизнь,
а не искусство…
Павел МелехинКого-то кормит ловкость рук,
кого-то — знания и званья.
Мы — веруем в своё призванье,
в свою науку из наук.
И что нас кормит — неизвестно.
Улыбка? Вера в торжество,
в победу Слова?
Если честно —
не знаю…
Серым — вещество
не зря назвали в черепушке…
Но — Александр Сергеич Пушкин
нам показал пример. И мы —
живём! И не приемлем Тьмы.
И помним выдох-стон немецкого поэта
в момент его ухода: «Больше света!»
Я слышу — говорят они со мной —
леса несозданных ещё стихотворений,
зовут грядущей хвоей и листвой,
живой, шумящею для новых поколений.
Мне не войти под сводчатую сень,
тропинок будущих не разгадать затею,
но я приветствую тебя, мой новый день,
и постараюсь сделать — что успею…
Роману Солнцеву
Только в мире поэзии —
можно жить и дышать.
По-над градами-весями
свой полёт продолжать.
Ослеплённо и горестно
быть счастливым, что есть
служба чести и совести,
сердца зрячего весть.
Что под звёздами-лунами
чист, студён, как родник,
жив родной, непридуманный
звучный русский язык!
В нём — случайно, напрасно ли? —
с самой древней поры —
если девушки — красные,
если парни — добры…
А земля обещальная —
нам дарует покой
тихой песней прощальною,
неподдельной тоской.
Над родимыми гнёздами —
уходя, воспарим
в небо тёмное, звёздное
к праотцам неземным.
Памяти Осипа Мандельштама
Гвозди делать или шестерёнки —
из живых людей…
В наши глинозёмные потёмки
столько белых втоптано костей!
Нам ли всех пересчитать, потомки…
Что для вас мы — прошлого обломки,
пыль и прах без права новостей,
пьедестал для молодых властей
волостей, краёв и областей.
— Пенсия — не песня: жалкий прах.
— Получил?
— Да ну её в болото!
Если Пушкин умер весь в долгах,
где уж нам надеяться на что-то.
На последней прямой
не щадят ни коней, ни моторов.
На последней прямой —
гонят, всё выжимая из них.
На последней прямой —
не до праздных глухих разговоров.
Бормочи, не стесняйся,
из глубин твоих рвущийся стих!
Валерию Трофимову
Корзина — говорил один чудак —
спасла литературу от засилья
желающих прославиться за так,
без всякого таланта и усилья.
Я с этой дерзкой публикой знаком,
она ко мне ходила косяками.
Не каждый был, конечно, дураком.
Но вместе — все мы — были дураками.
Надеялись: вот поумнеет мир,
система охранительная рухнет,
и — возрокочут струны наших лир,
и ахнет публика, и возликует, ухнет,
и на руках нас в новый век внесёт,
торжествовать, вкушать нектар и мёд.
Наивные — не зная языка,
надеялись — расставит запятые
бездарного редактора рука,
а мы — взлетим под облака иные —
к Свободе, Братству, Разуму, мечтам…
Страна счастливая — и аз тебе воздам!
Я встану — поддержать тебя — атлантом,
скульптурной силой, мужеством, талантом!
Ты расцветёшь, забыв мороку пут,
преобразит просторы вольный труд,
без принудиловки колхозной и совхозной,
где не стихами говорят, а прозой —
о допустимости запашки скоростной,
и пользе ядохимикатов в летний зной…
… Мы тоже были глупы и речисты.
Но — народились на земле экономисты,
и доказали нам, как дважды два —
что всё, чем заняты поэты — лишь слова,
что мы — шпана, эсеры и эсдеки,
что суть не в лозунгах, понятно,
в человеке
разумном.
В цифрах, выгодах, делах!
И потому — все наши вирши — прах…
И нас одно спасти способно — рынок,
где будет всё — от песен до ботинок,
где каждый купит то, что углядит,
что нужно каждому… И рынок — победит!
… Переворот произошёл, почти бескровен…
— Почём Чайковский, Бах, почём Бетховен?
— Почём заморская футбольная команда?
— А вот — рассвет над Костромою!
— Не. Не надо.
Я в регионе скважину купил,
она — и кормит, и поит шампанским,
я избран мэром областным тьмутараканским,
и эту землю — честно! — полюбил…
Вот эту девушку — с раскосыми глазами —
купил бы ненадолго. Как глядит!
Зачем ей ждать кого-то под часами?
Обидно, жаль, со мною — не хотит…
— Вы правы, хороша она, нежна.
Вам с ней не справиться. Она — моя жена!
Время сносит хрущёвские пятиэтажки,
забывает — как жили-ютились до них
в коммуналках, в бараках,
в клоповниках страшных,
в насыпушках, в избушках почти лубяных…
Экскаватор крушит и свергает бетонные плиты,
отслужившие людям… И мусор — на свалку везут.
Как последний привет от эпохи уже подзабытой,
над которой, как будто, последний свершается суд.
Дикий мёд, вино из одуванчиков,
древний привкус горечи в крови —
гонят по стране мятежных мальчиков,
не богатства ищущих — любви.
Настоящей, честной, понимающей,
видящей, и мудрой, как змея, з
а собою все мосты сжигающей,
ради вечной ценности — семья!
Чтобы улыбались — год за годом,
и в достатке жили и в труде,
чтоб народ — великим был народом,
а не кое-как и кое-где.
Чтобы оставляли след в Истории,
(не кровавый и жестокий след!),
чтобы внуки — им, великим, вторили,
дальше шли, туда, на чистый свет
Истины, Добра и не обманчивых
луговин,
цветущих по весне
солнышками жёлтых одуванчиков,
воссиявших миру, как во сне.
Я оставлю дочери в наследство
россыпь самых непохожих строк,
от бессонниц слабенькое средство,
всех дорог и поисков итог.
Пусть «мой дар — убог…»,
как не однажды
сказано бывало до меня,
истомлён и я духовной жаждой,
и в руках у Бога — жизнь моя…
В душу запавшие с детской поры,
(ввек не найти живописней и краше!) —
волжские кручи, холмы и бугры,
это былинное зрелище наше.
Этот — до Каспия — дивный простор,
рощи и пажити, и деревеньки,
эхо Урала, предчувствие гор,
память Орды, Пугачёва и Стеньки.
Нам не уйти от тебя никуда,
вечно звучит твоя музыка в сердце —
золото, синь-голубая вода,
небо, в которое не наглядеться!
Снег — ляжет, растает, уйдёт в облака,
и снова — в поля, родники и истоки
вернётся, пока мы считаем века,
свои пятидневки, минуты и сроки.
И всё же — кружится, витает, поёт,
нежданный, спасительный, розово-синий,
и всё-таки — белый! И ты, очумелый,
стоишь, улыбаешься, как идиот!
Станиславу Говорухину